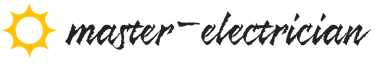Казус ницше и казус вагнер в культуре германии первой половины хх века.
«Казус Вагнер» (нем. Der Fall Wagner ) - произведение немецкого философа Фридриха Ницше . Рукопись произведения была закончена весной 1888 г. Книга была издана осенью того же года в лейпцигском издательстве К. Г. Наумана.
Фридрих Ницше о своей книге
Я делаю себе маленькое облегчение. Это не просто чистая злоба, если в этом сочинении я хвалю Бизе за счёт Вагнера. Под прикрытием многих шуток я говорю о деле, которым шутить нельзя. Повернуться спиной к Вагнеру было для меня чем-то роковым; снова полюбить что-нибудь после этого - победой. Никто, быть может, не сросся в более опасной степени с вагнерианством, никто упорнее не защищался от него, никто не радовался больше, что освободился от него. Длинная история! - Угодно, чтобы я сформулировал её одним словом? - Если бы я был моралистом, кто знает, как назвал бы я её! Быть может, самопреодолением. - Но философ не любит моралистов... Он не любит также красивых слов...
Произведение знаменует окончательный разрыв Ницще с Рихардом Вагнером . В сочинении говорится о бесполезности и вредности творчества немецкого композитора.
Напишите отзыв о статье "Казус Вагнер"
Примечания
Произведение на русском языке
- Сборник произведений - «По ту сторону добра и зла», «Казус Вагнер», «Антихрист», «Ессе Номо», «Человеческое, слишком человеческое», «Злая мудрость». Минск, 2005, издательство «Харвест». ISBN 985-13-0983-4
Отрывок, характеризующий Казус Вагнер
– В этом то и штука, – отвечал Билибин. – Слушайте. Вступают французы в Вену, как я вам говорил. Всё очень хорошо. На другой день, то есть вчера, господа маршалы: Мюрат Ланн и Бельяр, садятся верхом и отправляются на мост. (Заметьте, все трое гасконцы.) Господа, – говорит один, – вы знаете, что Таборский мост минирован и контраминирован, и что перед ним грозный tete de pont и пятнадцать тысяч войска, которому велено взорвать мост и нас не пускать. Но нашему государю императору Наполеону будет приятно, ежели мы возьмем этот мост. Проедемте втроем и возьмем этот мост. – Поедемте, говорят другие; и они отправляются и берут мост, переходят его и теперь со всею армией по сю сторону Дуная направляются на нас, на вас и на ваши сообщения.– Полноте шутить, – грустно и серьезно сказал князь Андрей.
Известие это было горестно и вместе с тем приятно князю Андрею.
Как только он узнал, что русская армия находится в таком безнадежном положении, ему пришло в голову, что ему то именно предназначено вывести русскую армию из этого положения, что вот он, тот Тулон, который выведет его из рядов неизвестных офицеров и откроет ему первый путь к славе! Слушая Билибина, он соображал уже, как, приехав к армии, он на военном совете подаст мнение, которое одно спасет армию, и как ему одному будет поручено исполнение этого плана.
– Полноте шутить, – сказал он.
– Не шучу, – продолжал Билибин, – ничего нет справедливее и печальнее. Господа эти приезжают на мост одни и поднимают белые платки; уверяют, что перемирие, и что они, маршалы, едут для переговоров с князем Ауэрспергом. Дежурный офицер пускает их в tete de pont. [мостовое укрепление.] Они рассказывают ему тысячу гасконских глупостей: говорят, что война кончена, что император Франц назначил свидание Бонапарту, что они желают видеть князя Ауэрсперга, и тысячу гасконад и проч. Офицер посылает за Ауэрспергом; господа эти обнимают офицеров, шутят, садятся на пушки, а между тем французский баталион незамеченный входит на мост, сбрасывает мешки с горючими веществами в воду и подходит к tete de pont. Наконец, является сам генерал лейтенант, наш милый князь Ауэрсперг фон Маутерн. «Милый неприятель! Цвет австрийского воинства, герой турецких войн! Вражда кончена, мы можем подать друг другу руку… император Наполеон сгорает желанием узнать князя Ауэрсперга». Одним словом, эти господа, не даром гасконцы, так забрасывают Ауэрсперга прекрасными словами, он так прельщен своею столь быстро установившеюся интимностью с французскими маршалами, так ослеплен видом мантии и страусовых перьев Мюрата, qu"il n"y voit que du feu, et oubl celui qu"il devait faire faire sur l"ennemi. [Что он видит только их огонь и забывает о своем, о том, который он обязан был открыть против неприятеля.] (Несмотря на живость своей речи, Билибин не забыл приостановиться после этого mot, чтобы дать время оценить его.) Французский баталион вбегает в tete de pont, заколачивают пушки, и мост взят. Нет, но что лучше всего, – продолжал он, успокоиваясь в своем волнении прелестью собственного рассказа, – это то, что сержант, приставленный к той пушке, по сигналу которой должно было зажигать мины и взрывать мост, сержант этот, увидав, что французские войска бегут на мост, хотел уже стрелять, но Ланн отвел его руку. Сержант, который, видно, был умнее своего генерала, подходит к Ауэрспергу и говорит: «Князь, вас обманывают, вот французы!» Мюрат видит, что дело проиграно, ежели дать говорить сержанту. Он с удивлением (настоящий гасконец) обращается к Ауэрспергу: «Я не узнаю столь хваленую в мире австрийскую дисциплину, – говорит он, – и вы позволяете так говорить с вами низшему чину!» C"est genial. Le prince d"Auersperg se pique d"honneur et fait mettre le sergent aux arrets. Non, mais avouez que c"est charmant toute cette histoire du pont de Thabor. Ce n"est ni betise, ni lachete… [Это гениально. Князь Ауэрсперг оскорбляется и приказывает арестовать сержанта. Нет, признайтесь, что это прелесть, вся эта история с мостом. Это не то что глупость, не то что подлость…]
Фридрих Ницше. Ecce Homo, как становятся самим собой. Казус Вагнер
Проблема музыканта
Чтобы отнестись справедливо к этому сочинению, надо страдать от судьбы музыки как от открытой раны. Отчего страдаю я, страдая от судьбы музыки? Оттого, что музыка лишена своего миропрославляющего, утверждающего характера, - оттого, что она сделалась музыкой decadence и уже перестала быть свирелью Диониса... Но если кто-нибудь, подобно мне, чувствует в деле музыки собственное дело, историю собственных страданий, то он найдёт это сочинение всё ещё слишком снисходительным, слишком мягким. Быть весёлым в таких случаях и добродушно высмеивать попутно самого себя - ridendo dicere severum, - где verum dicere оправдало бы всякую суровость, - это сама гуманность. Кто собственно сомневается в том, что я, как старый артиллерист, могу выкатить против Вагнера моё тяжёлое орудие? - Всё решительное в этом деле я оставил при себе - я любил Вагнера. - Впрочем, в смысле и на пути моей задачи лежит нападение на более тонкого "незнакомца", которого другой не легко разгадает - о, мне предстоит открыть ещё совсем иных "незнакомцев", чем какого-то Калиостро музыки, - и конечно же более сильное нападение на становящуюся в духовном отношении всё более и более трусливой и бедной инстинктами, всё более и более делающуюся почтенной немецкую нацию, которая с завидным аппетитом продолжает питаться противоположностями и без расстройства желудка проглатывает "веру" вместе с научностью, "христианскую любовь" вместе с антисемитизмом, волю к власти (к "Империи") вместе с evangile des humbles... Это безучастие среди противоположностей! Эта пищеварительная нейтральность и это "бескорыстие"! Этот здравый смысл немецкого нёба, которое всему даёт равные права, - которое всё находит вкусным... Без всякого сомнения, немцы - идеалисты... Когда я в последний раз посетил Германию, я нашёл немецкий вкус озабоченным предоставлением равных прав Вагнеру и трубачу из Зэкингена; я сам был свидетелем того, как в Лейпциге, в честь самого настоящего и самого немецкого музыканта в старом смысле слова, а не только в смысле имперского немца, мейстера Генриха Шютца, был основан ферейн Листа с целью развития и распространения извилистой церковной музыки... Без всякого сомнения, немцы - идеалисты...
Но здесь ничто не должно помешать мне стать грубым и сказать немцам несколько жёстких истин: кто сделает это кроме меня? - Я говорю об их непристойности in historicis. Немецкие историки не только утратили широкий взгляд на ход, на ценности культуры, но все они являются шутами политики (или церкви): они даже подвергают остракизму этот широкий взгляд. Надо прежде всего быть "немцем", "расой", тогда уже можно принимать решения о всех ценностях и не-ценностях in historicis - устанавливать их... "Немецкое" есть аргумент, "Deutschland, Deutschland uber alles" есть принцип, германцы суть "нравственный миропорядок" в истории; по отношению к imperium Romanum носители свободы, по отношению к восемнадцатому столетию - реставраторы морали, "категорического императива"... Существует имперская немецкая историография, я боюсь, что существует даже антисемитская, - существует придворная историография, и господину фон Трейчке не стыдно... Недавно, в качестве "истины", обошло все немецкие газеты идиотское мнение in historicis, тезис, к счастью, усопшего эстетического шваба Фишера, с которым должен-де согласиться всякий немец: "Ренессанс и Реформация вместе образуют одно целое - эстетическое возрождение и нравственное возрождение". - При таких тезисах моё терпение приходит к концу, и я испытываю желание, я чувствую это даже как обязанность - сказать наконец немцам, что у них уже лежит на совести. Все великие преступления против культуры за четыре столетия лежат у них на совести!.. И всегда по одной причине: из-за их глубокой трусости перед реальностью, которая есть также трусость перед истиной, из-за их, ставшей у них инстинктом, неправдивости, из-за их "идеализма"... Немцы лишили Европу жатвы, смысла последней великой эпохи, эпохи Ренессанса, в тот момент, когда высший порядок ценностей, когда аристократические, жизнеутверждающие и обеспечивающие будущее ценности достигли победы в самой резиденции противоположных ценностей, ценностей упадка, - и вплоть до инстинктов тех, кто там находился! Лютер, этот роковой монах, восстановил церковь и, что в тысячу раз хуже, христианство в тот момент, когда оно было побеждено... Христианство, это ставшее религией отрицание воли к жизни... Лютер, невозможный монах, который по причине своей "невозможности" напал на церковь и - следовательно! - восстановил её... У католиков было бы основание устраивать празднества в честь Лютера, сочинять театральные представления в честь Лютера... Лютер - и "нравственное возрождение"! К чёрту всю психологию! - Без сомнения, немцы-идеалисты. Дважды, когда с огромным мужеством и самопреодолением был достигнут правдивый, недвусмысленный, совершенно научный способ мышления, немцы сумели найти окольные пути к старому "идеалу", к примирению между истиной и "идеалом", в сущности к формулам на право отклонения от науки, на право лжи. Лейбниц и Кант - это два величайших тормоза интеллектуальной правдивости Европы! - Наконец, когда на мосту между двумя столетиями decadence явилась force majeure гения и воли, достаточно сильная, чтобы создать из Европы единство, политическое и экономическое единство, в целях управления землёй, немцы с их "войнами за свободу" лишили Европу смысла, чудесного смысла в существовании Наполеона, - оттого-то всё, что пришло после, что существует теперь, - лежит у них на совести: эта самая враждебная культуре болезнь и безумие, какие только возможны, - национализм, эта nevrose nationale, которой больна Европа, это увековечение маленьких государств Европы, маленькой политики: они лишили самое Европу её смысла, её разума - они завели её в тупик. - Знает ли кто-нибудь, кроме меня, путь из этого тупика?.. Задача достаточно великая - снова связать народы?..
И в конце концов, почему бы не предоставить слова моему подозрению? Немцы и в моём случае опять испробуют всё, чтобы из чудовищной судьбы родить мышь. Они до сих пор компрометировали себя во мне, я сомневаюсь, что в будущем им удастся это лучшим образом. - Ах, как хочется мне быть здесь плохим пророком!.. Моими естественными читателями и слушателями уже и теперь являются русские, скандинавы и французы, - будет ли их постоянно всё больше? - Немцы вписали в историю познания только двусмысленные имена, они всегда производили только "бессознательных" фальшивомонетчиков (Фихте, Шеллингу, Шопенгауэру, Гегелю, Шлейермахеру приличествует это имя в той же мере, что и Канту и Лейбницу; все они только шлейермахеры): они никогда не дождутся чести, чтобы первый правдивый ум в истории мысли, ум, в котором истина произносит свой суд над подделкой монет в течение четырёх тысячелетий, был отождествлён с немецким духом. "Немецкий дух" - это мой дурной воздух: я с трудом дышу в этой, ставшей инстинктом, нечистоплотности in psychologicis, которую выдаёт каждое слово, каждая мина немца. Они не прошли вовсе через семнадцатый век сурового самоиспытания, как французы, - какой-нибудь Ларошфуко, какой-нибудь Декарт во сто раз превосходят правдивостью любого немца, - у них до сих пор не было ни одного психолога. Но психология есть почти масштаб для чистоплотности или нечистоплотности расы... И если нет чистоплотности, как может быть глубина? У немца, как у женщины, не добраться до основания, он лишён его: вот и всё. Но при этом нельзя быть даже плоским. - То, что в Германии называется "глубоким", есть именно этот инстинкт нечистоплотности в отношении себя, о котором я и говорю: нет никакого желания разобраться в себе. Не могу ли я предложить слово "немецкий" как международную монету для обозначения этой психологической испорченности? - В настоящий момент, например, немецкий кайзер называет своим "христианским долгом" освобождение рабов в Африке: среди нас, других европейцев, это называлось бы просто "немецким" долгом... Создали ли немцы хоть одну книгу, в которой была бы глубина? У них нет даже понятия о том, что глубоко в книге. Я познакомился с учёными, которые считали Канта глубоким; при прусском дворе, я боюсь, считают глубоким господина фон Трейчке. А когда я при случае хвалю Стендаля, как глубокого психолога, случается, что немецкий университетский профессор просит назвать это имя по слогам...
И почему бы мне не идти до конца? Я люблю убирать со стола. Слыть человеком, презирающим немцев par excellence, принадлежит даже к моей гордости. Своё недоверие к немецкому характеру я выразил уже двадцати шести лет (Третье Несвоевременное) - немцы для меня невозможны. Когда я измышляю себе род человека, противоречащего всем моим инстинктам, из этого всегда выходит немец. Первое, в чём я "испытываю утробу" человека, - вопрос: есть ли у него в теле чувство дистанции, видит ли он всюду ранг, степень, порядок между человеком и человеком, умеет ли он различать: этим отличается gentilhomme; во всяком ином случае он безнадёжно принадлежит к великодушному, ах! добродушному понятию canaille. Но немцы и есть canaille ах! они так добродушны... Общение с немцами унижает: немец становится на равную ногу... За исключением моих отношений с некоторыми художниками, прежде всего с Рихардом Вагнером, я не переживал с немцами ни одного хорошего часа... Если представить себе, что среди немцев явился самый глубокий ум всех тысячелетий, то какая-нибудь спасительница Капитолия вообразила бы себе, что и её непрекрасная душа по крайней мере также принимается в расчёт... Я не выношу этой расы, среди которой находишься всегда в дурном обществе, у которой нет пальцев для nuances - горе мне! я есть nuance, - у которой нет esprit в ногах и которая даже не умеет ходить... У немцев в конце концов вовсе нет ступней, у них только ноги... У немцев отсутствует всякое понятие о том, как они пошлы, но это есть суперлатив пошлости - они не стыдятся даже быть только немцами... Они говорят обо всём, они считают самих себя решающей инстанцией, я боюсь, что даже обо мне они уже приняли решение... Вся моя жизнь есть доказательство de rigueur для этих положений. Напрасно я ищу хотя бы одного признака такта, delicatesse в отношении меня. Евреи давали их мне, немцы - никогда. Моя природа хочет, чтобы я в отношении каждого был мягок и доброжелателен, - у меня есть право на то, чтобы не делать различий, - это не мешает, однако, чтобы у меня были открыты глаза. Я не делаю исключений ни для кого, меньше всего для своих друзей, - я надеюсь в конце концов, что это не нанесло никакого ущерба моей гуманности в отношении их. Есть пять-шесть вещей, из которых я всегда делал себе вопрос чести. - Несмотря на это, остаётся верным, что каждое из писем, полученных мною в течение лет, я ощущаю как цинизм: в доброжелательстве ко мне больше цинизма, чем в какой-нибудь ненависти... Я говорю в лицо каждому из моих друзей, что он никогда не утруждал себя изучением хотя бы одного из моих сочинений: я узнаю по мельчайшим чертам, что они даже не знают, что там написано. Что касается особенно моего Заратустры, то кто из моих друзей увидел бы в нём больше, чем недозволенную, к счастью, совершенно безразличную самонадеянность?.. Десять лет: и никто в Германии не сделал себе долга совести из того, чтобы защитить моё имя от абсурдного умолчания, под которым оно было погребено; лишь иностранец, датчанин, впервые обнаружил достаточную тонкость инстинкта и смелости и возмутился против моих мнимых друзей... В каком немецком университете были бы возможны нынче лекции о моей философии, которые читал в Копенгагене последней весной и этим ещё раз доказанный психолог д-р Георг Брандес? - Я сам никогда не страдал из-за всего этого; необходимое не оскорбляет меня; amor fati есть моя самая внутренняя природа. Но это не исключает того, что я люблю иронию, даже всемирно-историческую иронию. И вот же, почти за два года до разрушительного удара молнией Переоценки, которая повергнет землю в конвульсии, я послал в мир "Казус Вагнер": пусть же немцы ещё раз бессмертно ошибутся во мне и увековечат себя! для этого как раз есть ещё время! - Достигнуто ли это? - Восхитительно, господа германцы! Поздравляю вас...
Я делаю себе маленькое облегчение. Это не просто чистая злоба, если в этом сочинении я хвалю Бизе за счёт Вагнера. Под прикрытием многих шуток я говорю о деле, которым шутить нельзя. Повернуться спиной к Вагнеру было для меня чем-то роковым; снова полюбить что-нибудь после этого - победой. Никто, быть может, не сросся в более опасной степени с вагнерианством, никто упорнее не защищался от него, никто не радовался больше, что освободился от него. Длинная история! - Угодно, чтобы я сформулировал её одним словом? - Если бы я был моралистом, кто знает, как назвал бы я её! Быть может, самопреодолением . - Но философ не любит моралистов… Он не любит также красивых слов…
Чего требует философ от себя прежде всего и в конце концов? Победить в себе своё время, стать «безвременным». С чем, стало быть, приходится ему вести самую упорную борьбу? С тем, в чём именно он является сыном своего времени. Ладно! Я так же, как и Вагнер, сын этого времени, хочу сказать decadent: только я понял это, только я защищался от этого. Философ во мне защищался от этого.
Во что я глубже всего погрузился, так это действительно в проблему decadence, - у меня были основания для этого. «Добро и зло» - только вариант этой проблемы. Если присмотришься к признакам упадка, то поймёшь также и мораль - поймёшь, что скрывается за её священнейшими именами и оценками: оскудевшая жизнь, воля к концу, великая усталость. Мораль отрицает жизнь… Для такой задачи мне была необходима самодисциплина: восстать против всего больного во мне, включая сюда Вагнера, включая сюда Шопенгауэра, включая сюда всю современную «человечность». - Глубокое отчуждение, охлаждение, отрезвление от всего временного, сообразного с духом времени: и, как высшее желание, око Заратустры , око, озирающее из страшной дали весь факт «человек» - видящее его под собою… Для такой цели - какая жертва была бы несоответственной? какое «самопреодоление»! какое «самоотречение»!
Высшее, что я изведал в жизни, было выздоровление . Вагнер принадлежит лишь к числу моих болезней.
Не то чтобы я хотел быть неблагодарным по отношению к этой болезни. Если этим сочинением я поддерживаю положение, что Вагнер вреден , то я хочу ничуть не менее поддержать и другое, - кому он, несмотря на это, необходим - философу. В других случаях, пожалуй, и можно обойтись без Вагнера: но философ не волен не нуждаться в нём. Он должен быть нечистой совестью своего времени, - для этого он должен наилучшим образом знать его. Но где же найдёт он для лабиринта современной души более посвящённого проводника, более красноречивого знатока душ, чем Вагнер? В лице Вагнера современность говорит своим интимнейшим языком: она не скрывает ни своего добра, ни своего зла, она потеряла всякий стыд перед собою. И обратно: мы почти подведём итог ценности современного, если ясно поймём добро и зло у Вагнера. - Я вполне понимаю, если нынче музыкант говорит: «я ненавижу Вагнера, но не выношу более никакой другой музыки». Но я понял бы также и философа, который объявил бы: «Вагнер резюмирует современность. Ничего не поделаешь, надо сначала быть вагнерианцем…»
КАЗУС ВАГНЕР
ТУРИНСКОЕ ПИСЬМО В МАЕ 1888
Ridendo dicere severum…
Я слышал вчера - поверите ли - в двадцатый раз шедевр Бизе . Я снова вытерпел до конца с кротким благоговением, я снова не убежал. Эта победа над моим нетерпением поражает меня. Как совершенствует такое творение! Становишься сам при этом «шедевром». - И действительно, каждый раз, когда я слушал Кармен , я казался себе более философом, лучшим философом, чем кажусь себе в другое время: ставшим таким долготерпеливым, таким счастливым, таким индусом, таким оседлым … Пять часов сидения: первый этап к святости! - Смею ли я сказать, что оркестровка Бизе почти единственная, которую я ещё выношу? Та другая оркестровка, которая теперь в чести, вагнеровская, - зверская, искусственная и «невинная» в одно и то же время и говорящая этим сразу трём чувствам современной души, - как вредна для меня она! Я называю её сирокко. Неприятный пот прошибает меня. Моей хорошей погоде настаёт конец.
Эта музыка кажется мне совершенной. Она приближается легко, гибко, с учтивостью. Она любезна, она не вгоняет в пот . «Хорошее легко, всё божественное ходит нежными стопами» - первое положение моей эстетики. Эта музыка зла, утончённа, фаталистична: она остаётся при этом популярной, - она обладает утончённостью расы, а не отдельной личности. Она богата. Она точна. Она строит, организует, заканчивает: этим она представляет собою контраст полипу в музыке, «бесконечной мелодии». Слышали ли когда-нибудь более скорбный трагический тон на сцене? А как он достигается! Без гримас! Без фабрикации фальшивых монет! Без лжи высокого стиля! - Наконец: эта музыка считает слушателя интеллигентным, даже музыкантом, - она и в этом является контрастом Вагнеру, который, как бы то ни было, во всяком случае был невежливейшим гением в мире (Вагнер относится к нам как если бы, он говорит нам одно и то же до тех пор, пока не придёшь в отчаяние, - пока не поверишь этому).
Повторяю: я становлюсь лучшим человеком, когда со мной говорит этот Бизе. Также и лучшим музыкантом, лучшим слушателем . Можно ли вообще слушать ещё лучше? - Я зарываюсь моими ушами ещё и под эту музыку, я слышу её причину. Мне чудится, что я переживаю её возникновение - я дрожу от опасностей, сопровождающих какой-нибудь смелый шаг, я восхищаюсь счастливыми местами, в которых Бизе неповинен. - И странно! в сущности я не думаю об этом или не знаю , как усиленно думаю об этом. Ибо совсем иные мысли проносятся в это время в моей голове… Заметили ли, что музыка делает свободным ум? Даёт крылья мысли? Что становишься тем более философом, чем более становишься музыкантом? - Серое небо абстракции как бы бороздят молнии; свет достаточно силён для всего филигранного в вещах; великие проблемы близки к постижению; мир, озираемый как бы с горы. - Я определил только что философский пафос. - И неожиданно ко мне на колени падают ответы , маленький град из льда и мудрости, из решённых проблем… Где я? - Бизе делает меня плодовитым. Всё хорошее делает меня плодовитым. У меня нет другой благодарности, у меня нет также другого доказательства для того, что хороню.
Также и это творение спасает; не один Вагнер является «спасителем». Тут прощаешься с сырым Севером, со всеми испарениями вагнеровского идеала. Уже действие освобождает от этого. Оно получило от Мериме логику в страсти, кратчайшую линию, суровую необходимость; у него есть прежде всего то, что принадлежит к жаркому поясу, - сухость воздуха, limpidezza в воздухе. Тут во всех отношениях изменён климат. Тут говорит другая чувственность, другая чувствительность, другая весёлость. Эта музыка весела; но не французской или немецкой весёлостью. Её весёлость африканская; над нею тяготеет рок, её счастье коротко, внезапно, беспощадно. Я завидую Бизе в том, что у него было мужество на эту чувствительность, которая не нашла ещё до сих пор своего языка в культурной музыке Европы, - на эту более южную, более смуглую, более загорелую чувствительность… Как благодетельно действуют на нас жёлтые закаты её счастья! Мы выглядываем при этом наружу: видели ли мы гладь моря когда-либо более спокойной? - И как успокоительно действует на нас мавританский танец! Как насыщается наконец в его сладострастной меланхолии даже наша ненасытность! - Наконец любовь, переведённая обратно на язык природы любовь! Не любовь «высшей девы»! Не сента-сентиментальность! А любовь как фатум, как фатальность , циничная, невинная, жестокая - и именно в этом природа ! Любовь, по своим средствам являющаяся войною, по своей сущности смертельной ненавистью полов! - Я не знаю другого случая, где трагическая соль, составляющая сущность любви, выразилась бы так строго, отлилась бы в такую страшную формулу, как в последнем крике дона Хосе, которым оканчивается пьеса:
Да! я убил её,
я - мою обожаемую Кармен!
Такое понимание любви (единственное достойное философа) редко: оно выдвигает художественное произведение из тысячи других. Ибо в среднем художники поступают как все, даже хуже - они превратно понимают любовь. Не понял её также и Вагнер. Они считают себя бескорыстными в любви, потому что хотят выгод для другого существа, часто наперекор собственным выгодам. Но взамен они хотят владеть этим другим существом… Даже Бог не является тут исключением. Он далёк от того, чтобы думать: «что тебе до того, что я люблю тебя?» - он становится ужасен, если ему не платят взаимностью. L"amour - это изречение справедливо и для богов, и для людей - est de tous les sentiments le plus egoiste, et par consequent, lorsqu"il est blesse, le moins genereux (Б. Констан).
Вы видите уже, как значительно исправляет меня эта музыка? Il faut mediterraniser la musique - я имею основания для этой формулы (По ту сторону добра и зла). Возвращение к природе, здоровье, весёлость, юность, добродетель! - И всё же я был одним из испорченнейших вагнерианцев… Я был в состоянии относиться к Вагнеру серьёзно… Ах, этот старый чародей! чего только он не проделывал перед нами! Первое, что предлагает нам его искусство, - это увеличительное стекло: смотришь в него и не веришь глазам своим - всё становится большим, даже Вагнер становится большим … Что за умная гремучая змея! Всю жизнь она трещала нам о «покорности», о «верности», о «чистоте»; восхваляя целомудрие, удалилась она из испорченного мира! - И мы поверили ей…
Но вы меня не слушаете? Вы сами предпочитаете проблему Вагнера проблеме Бизе? Да и я не умаляю её ценности, она имеет своё обаяние. Проблема спасения - даже достопочтенная проблема. Вагнер ни над чем так глубоко не задумывался, как над спасением: его опера есть опера спасения. У него всегда кто-нибудь хочет быть спасённым: то юнец, то девица - это его проблема. - И как богато варьирует он свой лейтмотив! Какие удивительные, какие глубокомысленные отклонения! Кто, если не Вагнер, учил нас, что невинность спасает с особенной любовью интересных грешников? (случай в Тангейзере). Или что даже вечный жид спасётся, станет оседлым , если женится? (случай в Летучем голландце). Или что старые падшие женщины предпочитают быть спасаемыми целомудренными юношами? (случай Кундри). Или что молодые истерички больше всего любят, чтобы их спасал их врач? (случай в Лоэнгрине). Или что красивые девушки больше всего любят, чтобы их спасал рыцарь-вагнерианец? (случай в Мейстерзингерах). Или что также и замужние женщины охотно приемлют спасение от рыцаря? (случай Изольды). Или что «старого Бога», скомпрометировавшего себя морально во всех отношениях, спасает вольнодумец и имморалист? (случай в «Кольце»). Подивитесь особенно этому последнему глубокомыслию! Понимаете вы его? Я - остерегаюсь понять его… Что из названных произведений можно извлечь ещё и другие учения, это я охотнее стал бы доказывать, чем оспаривать. Что вагнеровский балет может довести до отчаяния, - а также до добродетели! (ещё раз Тангейзер). Что может иметь очень дурные последствия, если не ляжешь вовремя спать (ещё раз Лоэнгрин). Что никогда не следует слишком точно знать, с кем, собственно, вступил в брак (в третий раз Лоэнгрин). - Тристан и Изольда прославляют совершенного супруга, у которого в известном случае есть только один вопрос: «но почему вы не сказали мне этого раньше? Ничего нет проще этого!». Ответ.
ПРИБАВЛЕНИЕ
Серьёзность последних слов позволяет мне привести здесь ещё некоторые положения из одной ненапечатанной статьи, которые по крайней мере не оставляют сомнения в моём серьёзном отношении к этому делу. Названная статья озаглавлена: Чего Вагнер нам стоит .
Приверженность к Вагнеру обходится дорого. Смутное чувство этого существует ещё и нынче. Даже и успех Вагнера, его победа не вырвала с корнем этого чувства. Но некогда оно было сильным, было страшным, было как бы мрачной ненавистью, - почти в течение трёх четвертей жизни Вагнера. То сопротивление, которое он встретил у нас, немцев, достойно всяческой похвалы и почёта. От него защищались, как от болезни, - не доводами - ими не поборешь болезни, - а препонами, недоверием, угрюмостью, отвращением, мрачной серьёзностью, точно в лице его всюду бродила великая опасность. Господа эстетики скомпрометировали себя, когда они, из трёх школ немецкой философии, объявили абсурдную войну принципам Вагнера разными «если» и «ибо» - какое было ему дело до принципов, даже собственных! - У самих немцев оказалось достаточно разума в инстинкте, чтобы не позволять себе тут никаких «если» и «ибо». Инстинкт ослаблен, если он рационализируется: ибо тем, что он рационализируется, он ослабляется. Если есть признаки того, что, несмотря на общий характер европейского decadence, в немецком существе всё ещё живёт некоторая степень здоровья, инстинктивное чутье вредного и грозящего опасностью, то я менее всего хотел бы, чтобы в их числе игнорировали это тупое сопротивление Вагнеру. Оно делает нам честь, оно позволяет даже надеяться: так много здоровья Франция не могла бы уже выказать. Немцы, замедлители par excellence в истории, теперь самый отсталый культурный народ Европы: это имеет свою выгоду - именно в силу этого они относительно и самый молодой народ.
Приверженность к Вагнеру обходится дорого. Немцы совсем недавно утратили нечто вроде страха перед ним - желание освободиться от него являлось у них при всяком случае. - Помнят ли ещё то курьёзное обстоятельство, при котором совсем под конец, совсем неожиданно снова проявилось старое чувство к Вагнеру? При погребении Вагнера первое немецкое Вагнеровское общество в Мюнхене возложило на гроб его венок, надпись которого тотчас же стала знаменитой. «Спасение спасителю!» - гласила она. Каждый удивлялся высокому вдохновению, продиктовавшему эту надпись, каждый удивлялся вкусу, на который приверженцы Вагнера имеют привилегию; однако многие (это было довольно странно!) сделали в ней одну и ту же маленькую поправку: «Спасение от спасителя!» - Вздохнули свободнее.
Приверженность к Вагнеру обходится дорого. Измерим её по её действию на культуру. Кого собственно выдвинуло на передний план вызванное им движение? Что всё более и более взращивало оно? - Прежде всего, наглость профанов, идиотов в искусстве. Они организуют теперь ферейны, они хотят насаждать свой «вкус», они хотели бы даже разыгрывать судей in rebus musicis et musicantibus. Во-вторых, всё большее равнодушие ко всякой строгой, аристократичной, совестливой выучке в служении искусству; на её место поставлена вера в гений, по-немецки: наглый дилетантизм (- формула для этого имеется в Мейстерзингерах). В-третьих, и это самое худшее: театрократию - сумасбродную веру в преимущество театра, в право театра на господство над искусствами, над искусством… Но надо сто раз говорить прямо в лицо вагнерианцам, что такое театр: всегда лишь под искусства, всегда лишь нечто второе, нечто огрублённое, нечто надлежащим образом выгнутое, вылганное для масс! Тут и Вагнер не изменил ничего: Байрейт - большая опера, - а вовсе не хорошая опера… Театр есть форма демолатрии в целях вкуса, театр есть восстание масс, плебисцит против хорошего вкуса… Это именно и доказывает казус Вагнер : он покорил толпу, он испортил вкус, он испортил даже наш вкус к опере!
Приверженность к Вагнеру обходится дорого. Что она делает с умом? освобождает ли Вагнер ум? - Ему свойственна всякая двойственность, всякая двусмысленность, вообще всё, что убеждает невежд, не доводя их до сознания, для чего их убедили? Это делает Вагнера соблазнителем высокого стиля. Нет ничего усталого, отжившего, жизнеопасного и поносящего мир в духовной области, что не было бы взято его искусством тайно под защиту, - это самый чёрный обскурантизм, скрываемый им под светлыми покровами идеала. Он льстит каждому нигилистическому (- буддистскому) инстинкту и переряжает его в музыку, он льстит каждой христианственности, каждой религиозной форме decadence. Откройте свои уши: всё, что выросло на почве оскудевшей жизни, вся фабрикация фальшивых монет трансценденции и потустороннего, имеет в искусстве Вагнера своего высшего защитника - не формулами: Вагнер слишком умён для формул, - а убеждением чувственности, которая в свою очередь снова делает ум дряблым и усталым. Музыка, как Цирцея… Его последнее произведение является в этом его величайшим шедевром. Парсифаль вечно сохранит своё значение в искусстве обольщения как гениальный приём обольщения… Я удивляюсь этому творению, я хотел бы быть его автором; за отсутствием этого факта я понимаю его … Вагнер никогда не был более вдохновенным, чем в конце. Утончённость в соединении красоты и болезни заходит здесь так далеко, что как бы бросает тень на прежнее искусство Вагнера: оно кажется слишком светлым, слишком здоровым. Понимаете ли вы это? Здоровье, светлость, действующие как тень? почти как возражение ?.. Настолько мы уже чистые глупцы … Никогда ещё не было более великого мастера в удушливых гиератических благовониях, - никогда ещё не жил равный знаток всего маленького бесконечного, всего дрожащего и чрезмерного, всех феминизмов из идиотикона счастья! - Отведайте только, друзья мои, волшебного зелья этого искусства! Вы нигде не найдёте более приятного способа энервировать ваш дух, забывать о вашем мужестве под розовым кустом… Ах, этот старый чародей! Этот Клингзор из Клингзоров! Как воюет он этим с нами ! с нами, свободными умами! Как угодливо говорит он каждой трусости современной души чарующими звуками девичьего голоса! - Никогда не существовало такой смертельной ненависти к познанию! - Надо быть циником, чтобы не быть здесь обольщённым, нужно иметь способность кусать, чтобы не боготворить здесь. Хорошо, старый обольститель! Циник предостерегает тебя - cave canem…
Приверженность к Вагнеру обходится дорого. Я наблюдаю юношей, долго подвергавшихся его инспекции. Ближайшим сравнительно невинным действием является порча вкуса. Вагнер действует, как продолжающееся употребление алкоголя. Он притупляет, он засоряет желудок. Специфическое действие: вырождение ритмического чувства. Вагнерианец называет в конце концов ритмическим то, к чему я применяю греческую поговорку «мутить болото». Уже гораздо опаснее порча понятий. Юноша становится недоноском - «идеалистом». Он перегнал науку; в этом он стоит на высоте маэстро. Взамен этого он разыгрывает философа; он пишет байрейтские листки; он разрешает все проблемы во имя отца, сына и святого маэстро. Худшим, конечно, остаётся порча нервов. Пройдитесь ночью по большому городу - вы услышите всюду, как с торжественной яростью насилуют инструменты - к этому примешивается порою дикий вой. Что там происходит? Юноши молятся Вагнеру… Байрейт смахивает на водолечебницу. - Типичная телеграмма из Байрейта: bereits bereut (уже покаялись). - Вагнер вреден для юношей; он является роковым для женщины. Что такое, с точки зрения врача, вагнерианка? - Мне кажется, что врач должен бы поставить молодым женщинам со всею серьёзностью следующую альтернативу совести: одно или другое. - Но они уже выбрали. Нельзя служить двум господам, если один из них - Вагнер. Вагнер спас женщину; женщина построила ему за это Байрейт. Вся - жертва, вся - покорность: нет ничего, чего бы ему не отдали. Женщина беднеет на благо маэстро, она становится трогательной, она стоит перед ним нагая. Вагнерианка - самая прелестная двусмысленность из существующих нынче: она воплощает дело Вагнера, - она является знамением победы его дела… Ах, этот старый разбойник! Он крадёт у нас юношей, он крадёт даже наших жён и тащит их в свою пещеру… Ах, этот старый Минотавр! Чего он уже нам стоил! Ежегодно приводят ему в его лабиринт вереницы прелестнейших дев и юношей, чтобы он проглотил их, - ежегодно взывает вся Европа: «собирайтесь на Крит! собирайтесь на Крит!..»
Из книги Нравственная философия [Опыты. Представители человечества] автора Эмерсон Ральф УолдоПРИБАВЛЕНИЕ. Отрывки из «Conduct of life» Р. У. Эмерсона Озарение мысли изводит человека из рабства в свободу. По всей справедливости можем мы сказать о себе: мы рождаемся, и после того возрождаемся; и не раз, не два, а несколько раз совершается, наше возрождение. Опыты,